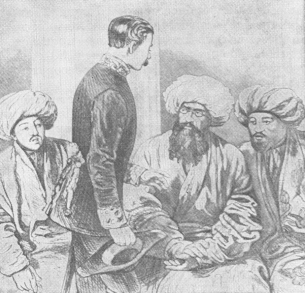 ИСТОРИЯ МАНГЫТСКОЙ ДИНАСТИИ
ИСТОРИЯ МАНГЫТСКОЙ ДИНАСТИИ
2 часть
Одним словом, когда покрышка с котла узбеков была снята и под позолотой сверху донизу стала видна медь, русские должным образом оценили положение. Они тут же двинулись к Джизаку. 121 Из Самарканда для обороны Джизака выступили двенадцать тысяч солдат во главе с несколькими военачальниками. Все военачальники враждовали между собой. Когда один делал привал, — другой двигался. Если у одного лошадь застревала в грязи, — никто ему не помогал. Среди них были и регулярные воины. Командиры были афганцы. Эти были обучены правилам регулярного сражения и видели много сражений.
Все они собрались в Джизаке. Военачальники из регулярных частей посоветовали выйти за стены города. Находиться [51] всем внутри города не следует. Там надо дать сражение. Но гулямы эмира, которые были главными начальниками, этих слов не послушались. Все они шумели, как на сборище женщин, и слов друг друга не слышали. В конце концов, отряд афганцев из регулярных войск вышел и, окруженный русскими войсками, после жаркого сражения геройски пал. Оставшиеся же глупцы засыпали ворота города, чем закрыли дорогу собственного спасения и открыли большую дорогу своей погибели. Начальники вместе с войском оказались в окружении.
В это же время русское войско подошло к крепости, подвергло его обстрелу из пушек и ружей и в течение получаса стену сравняло с землей. Около ста человек вошли внутрь крепости, и все они расстреливали из ружей все живое, что им попадалось.
Убивая и расстреливая, они загнали всех добровольцев к воротам города, которые перед этим те сами закрыли и засыпали землей. Все пригнули головы и прятались за спины друг друга, чтобы спастись от пуль врага. И все выставили зады. За каждыми двумя-тремя тысячами этих добровольцев было по три-четыре русских воина, которые стреляли им в зады, и с каждым выстрелом пуля пробивала зады пяти-шести человек добровольцев, застревая только в заду седьмого; так они толпами падали на землю. И не было у них мужества оглянуться, они думали, что их преследует несколько тысяч русских воинов. Так, они отправились в ад, перепачканные дерьмом, и им слышались со всех сторон слова: «О, отступники неверные, бейте отступников!», 122 и лишь немногие из них вскарабкивались на стену, бросались вниз и бежали с перебитыми руками и ногами и, то падая, то поднимаясь, добравшись до Самарканда, рассказывали о страшных событиях, 123 став примером и назиданием для [потомков].
Когда русские силой оружия захватили Джизак, эмир не решился дальше оставаться в Самарканде и направился в сторону Бухары. Ученые улемы снова протрубили всеобщий сбор, и множество народа из мулл и простолюдинов, которые не имели представления об истинном положении дел, снова собрались в Самарканде. Инак Ширали, который эмиром был оставлен правителем Самарканда, отдал приказ убивать этих добровольцев 124: «…мол, из-за их подстрекательства поднялась смута и мятежи; и пока муллы не будут убиты, не успокоится народное возмущение. В основе священная война в том и заключается, чтобы убивать суннитов, тогда для нас наступит спокойствие». И этот приказ [52] правителя, отданный от большого страха, они украсили и подтвердили печатью крови множества мусульман.
Увидав такую несправедливость со стороны Ширали, население Самарканда ради защиты веры встало на сторону мусульман и учащихся, напало на женщин и мужчин гарнизона, находившегося в Самарканде; и по улицам города потекли ручьи крови. 125 Известия об этом сразу же достигли неверных, и они говорили: «Откуда бы ни шло убийство, [оно] все идет на пользу нам». 126 И тогда некоторые из бухарских военачальников, которые находились в гарнизоне в Самарканде, приняли меры к примирению, положив конец смуте мягкими увещеваниями.
Ни в какие времена и эпохи никто не мог бы назвать такие беспорядки, которые обнаружились в этом государстве.
Удивительно то, что если кому-нибудь и приходило в голову что-либо разумное, то он не мог никого заставить согласиться с этим. Поразительно и вот что. В плену у этого войска находился один из знатных русских. Каждый раз при встрече с кем-либо он внушал советы, которые могли бы быть использованы на благо государства и ради его сохранения. Он говорил: «Если хотите, я даже отсюда могу добиться перемирия [между вами]». Во время разгрома на берегу реки он говорил: «Я обещаю, что русские не перейдут через эту реку и что эта сторона реки останется вашей». А во время сражения в Джизаке он говорил: «Я добьюсь таких условий,. чтобы [земли] по эту сторону от Джизака остались за вами. И я успокою ваши сердца, что является вашим желанием».
Но никто не принял его слов и никто не взялся за то, чтобы доложить эмиру, так как это не входило в намерения эмира. А он еще так говорил: «Освободите меня и пошлите со мной кого-нибудь. Я отправлюсь и устрою ваше дело, как нужно. Вы с русскими воевать не в состоянии».
При нем они соглашались, а как только уходили от него, — делали все по-прежнему; и никто не довел до сведения эмира его слов.
В конце концов, [как оно я должно было быть], произошло нападение русских на Самарканд. Узбеки надеялись на то, что местность в окрестностях Самарканда сильно пересечена и что они здесь легко смогут перехватить русских так, что никто из них оттуда живым не уйдет. Они, мол, не знают этих мест, мы их схватим в этих расселинах и отправим в овраги ада. Когда русские подошли к берегу самаркандской реки [Зеравшан], некоторые наши пушки стояли на холме Чупан-Ата. 127 Две-три пушки выстрелили, но порох не воспламенился. Русские также ударили картечью и без особых [53] затруднений вошли в город и заняли Кокташ. И все эти фантазеры мгновенно разбежались и бегом добрались до Бухары. Затем волей-неволей обратились с просьбой о заключении перемирия. 128 А того русского начальника, который был у нас в плену, освободили даром.
Было отдано русским сто семьдесят тысяч динаров червонного золота. Провели пограничную линию между Бухарской и Самаркандской областями. Молились лишь о безопасности для души.
То, что мудрец делает, — сделает и глупец,
Но [этот] лишь после того, как много раз опозорится.
Мы решили уплатить русским такую же сумму в виде возмещения расходов, [назвав ее военной контрибуцией], 129 дабы они приостановили нападение на нас. В столицу русского императора мы отправили бухарского царевича с посольством и обещанием покорности вместе с этой суммой денег.
Удивительно то, что перед присоединением Самарканда к России, командующий русским войском в письмах и посланиях предполагал, чтобы эмир прислал одного из своих сыновей на этих же условиях. При этом мы [русские] обещаем отсюда отойти, т. е. вернуться назад из окрестностей Джизака, и между нами установится прочный мир, искренность и взаимопомощь. Это предложение не встретило сочувствия у военачальников. Они не смогли даже об этом довести до сведения эмира. А после самаркандской смуты на них так же была возложена военная контрибуция. Волей-неволей они вынуждены были покориться, принять на себя обязательство и подчиниться.
В одной притче мудрецов рассказывается, что некий правитель подверг пытке одного из жестоких своих чиновников и приказал: «Он вправе выбрать одно из трех: заплатить триста динаров [в качестве] штрафа, принять сто ударов палкой или съесть тарелку человеческого кала». Палачи и помощники начальника полиции приготовили охапку палок, блюдо горячего кала и сказали: «Ты волен выбрать одно из этих трех наказаний». Он ответил: «Легче всего справиться с тарелкой». С отвращением глотнул два-три раза, но это пришлось ему не по вкусу. И он сказал: «Палки лучше». Пятьдесят раз ударили его по спине и по бокам, и он заплакал и закричал, что дает золото и что дать золото легче всего. Несчастный бедняга из-за своего недомыслия подвергся всем трем наказаниям.
К тому путешествию в Россию, в которое был назначен бухарский царевич в качестве посла и для заключения перемирия, автор этих строк также был причастен. Он отправился [54] вместе с этой миссией, видел много интересного. Хотя рассказ об этом выходит за пределы этих черновых записок, он содержит много полезного и редкостного, что может удивить людей мудрых и послужить подкреплением содержания этих записок. Опишу все, что видел и слышал в сокращенном виде.
Итак, после того, как владение Кеш 130 и прилегающие области попали в руки эмира Насрулло и были уничтожены главы кенигесских племен, возникла необходимость отправить посла в столицу России. Незадолго до этого Николай, отец императора, потерпел страшное поражение от стамбульского государства и франков. 131 Выпив смертельного яда, он сам себя отправил в место вечного упокоения. На троне его место занял сын Александр. Он обязался в течение семи лет платить контрибуцию стамбульскому государству, на двадцать лет приостановить всякие военные предприятия и занялся обновлением основ государственного устройства. 132 По этой причине было решено послать посла, который должен был отправиться с поздравлением нового русского правительства, а также с сообщением о нашей знаменитой победе (под Кешем] и тем самым укрепить узы дружбы между двумя государствами, от его зависело спокойствие подданных к и войска.
К этому посольству автор этих строк также был присоединен и принял участие в этом путешествии. По той причине, что мне в [этом] государстве [приходилось] исполнять службу 133 и потому, что я проявил некоторые познания и умение, мне было поручено [следующее]: «Ты расследуй тамошние внутренние дела, хорошо изучи положение их государства и доложи высокому престолу. Обо всех внешних делах каждой страны мы узнаем или от купцов, или от путешественников».
Приготовление дорожного снаряжения и средств для путешествия царевича велось под наблюдением вазира Мухаммед-шаха кушбеги. Эмира не было в городе. Он поехал верхом на прогулку по некоторым крепостям. После сообщения кушбеги [в котором писалось], что снаряжение для путешествия царевича подготовлено, исключая одного мирзы 134 и имама для ведений всей переписки посольства, [встал вопрос], кого назначить, что зависело от высокого приказа. Эмир написал, что такой-то был в России, и он знает дорогу и тамошние остановки, он будет мирзой и имамом.
В связи с тем, что занятие делами войска и служба правителям казались мне очень тяжелыми и бесплодными и по причине отсутствия в них порядка, я, [несмотря] на наличие [55] предложений [работы] и упреков, отошел от дел, жил спокойно при медресе, довольствуясь сухим хлебом.
Я довольствуюсь сухим хлебом и старой одеждой:
Груз изнурительного труда лучше, чем бремя благодеяний.
Под вечер зашел ко мне человек от вазира и пригласил меня в канцелярию министерства. Я отправился. Кушбеги сказал: «Завтра утром царевич отправляется из города в путешествие. Ты тоже устрой свои дела и поедешь вместе с ним». Я спросил: «Что же я могу за такое время сейчас приготовить для путешествия?» Он ответил: «Я доложил эмиру о твоем жаловании, [ожидаю], что он прикажет». Утром я снова отправился в канцелярию вазира. Вазир спросил, приготовил ли я лошадь и снаряжение. Я ответил, что у меня в медресе нет конюшни, где был бы конь. Он сказал: «Я доложил о твоем жаловании эмиру. Он ничего не приказал. Беги и позаботься о своем верховом животном, поторопись, так как царевич утром уже отправился и ты его еще догонишь». Я попросил: «Выдай мне лошадь из царской конюшни». Он дерзко и грубо ответил, что лошадей лишних нет.
В это время писец дивана министерства знаком вызвал меня наружу и потребовал лошадь из царской конюшни без седла и узды. Итак, я сел верхом и отправился вслед за царевичем. В это путешествие 135 было назначено, кроме прислуги, сорок человек: десять человек чиновников, десять ясаулов, десять чиновников кушбеги и десять купцов. Жалованье амальдаров 136 было триста танга, ясаулов 137 — сто танга, а остальных — пятьдесят танга, а также полная одежда, Жалованье пишущего, назначенного секретарем и имамом, — молитва и фатиха.
Удивительное дело! Надо быть ослом, чтобы, будучи вазирем, нуждаться в докладе и ответе на сумму в сто — триста танга! Не мог он со своей стороны дать одежды, а тем более динары и дирхемы. Но еще удивительнее то, что никто в этой компании меня не знал. Каждый спрашивал: «Мулла, куда вы едете? и кто вам нужен?» Иногда я от удивления посмеивался и ничего не говорил, а иногда говорил, что иду с вами. Так длилось до тех пор, пока несколько купцов, которые меня знали, не присоединились к нам.
Короче говоря, эти купцы привели в порядок моего коня и снаряжение и поручили меня своим слугам, чтобы те ухаживали за моей лошадью. И их прибытие никого не заинтересовало. Поскольку они купцы, предполагалось, что они наши попутчики. Царевич по молодости лет не обращал никакого внимания на толпу людей, сопровождавших его. Он не знал, куда едет, куда его тащат. А глава посольской миссии, у которого [56] была грамота и поручения, был старым, выжившим из ума человеком. Он был постоянно [пьян], с пересохшей глоткой. По причине излишнего курения анаши, он был погружен в самого себя. Он ехал один по обочине дороги и не касался всего этого люда. Если кто-либо его о чем-нибудь просил, он говорил: «Иди доложи царевичу», а царевич, [в свою очередь], отвечал: «Отец знает, иди к нему!»
Короче говоря, в таком позорном состоянии мы прибыли в Самарканд. Чиновники и смотрители дорог из Бухары и Самарканда везде, где мы устраивали ночлег, доставляли воду и пищу и приносили подарки и дары. Различные товары и ткани дядя царевича засовывал в дорожные вещевые мешки. Что касается еды и питья, то тот, кто был проворнее, подобно комару, пробивался к миске и успевал запачкать пальцы. Остальное обычно приканчивали прохожие, зеваки и слуги чиновников [посольства]. К вечеру большинство попутчиков, становилось голодными, всадники оставались без ячменя; хлеб, пища, ямские лошади — все забиралось и грабилось. На этом участке дороги никому не понадобилась ни молитва, ни письмо; и не было нужды ни в мирзе, ни в имаме. Тот, кто хотел, совершал намаз с омовением или без него в уголке. Но в Самарканде, поскольку нас прислали на три дня в качестве гостей, появилась необходимость в общем намазе, дабы русские, увидев [наше нерадение], не упрекнули нас.
Тогда начальник посольства стал жаловаться на кушбеги за то, что он не назначил нам ни имама, ни мирзы и [предложил] отправить жалобу и поставить в известность эмира о делах хакимов и правителей Самарканда. Группа купцов указала на меня: «Вон тот, который сидит в углу ковра, является для вас и имамом, и мирзой». Тогда меня вызвали, и он мне предложил постоянное место, испугавшись, что я назначен в это путешествие для того, чтобы все, что увижу, — сообщал.
Между тем все от мала до велика начали спорить и ругаться из-за лошадей, харчей и фуража для лошадей, полученных от русского начальника. В тех же случаях, когда нужно было давать подарки на чай, тюря отсылал к послу, а посол — к царевичу. В тех же случаях, когда кто-нибудь приносил [что-либо] в виде дорожного подарка, посол говорил: «Это для меня принесено», а царевич говорил: «Для меня!» И кому бы ни достался, остальные начинали ссориться и скандалить, почему ему не выделили части? И ведя себя так по-шутовски, добрались до Ташкента. После свидания с губернатором посол послал специального человека с конем и подарком [57] от эмира. Тамошний правитель, который был из русских, подарил конюху ассигнацию в двадцать пять танга. И всю ночь и весь день посол с конюхом спорил, требуя, от последнего те двадцать пять танга. Он говорил: «Я тебе за службу каждый месяц плачу десять танга, а на большее ты не имеешь права, и эти двадцать пять танга принадлежат мне». Конюх сказал: «Это мое».
В конце концов, дело передали в русский суд. Доверенное лицо суда эти деньги взял у посла и отдал их конюху.
Когда собрались отправиться из Ташкента в русскую столицу, наступила осень. Я говорил послу, что мы прибудем в русскую столицу в самый сильный холод, падающий на начало сорокодневных зимних морозов. Предположим, что после вручения послания русские дадут разрешение на отъезд, — не соглашайтесь и оставайтесь до весны. Вы человек старый, а царевич малолетний, а в этой стране в это время самые сильные холода. Не дай бог, что-нибудь случиться с вами! Он согласился, что, конечно, это правильно.
Было начало месяца, когда он вручил послание и грамоту и сейчас же попросил разрешение у царя на обратный отъезд. И снова во время пути мы с послом ехали рядом.
Я говорил, [предупреждая]: «До сих пор во время разговоров с русскими правителями и начальниками все, что вы говорили и делали, было не к месту и попусту. После этого вам предстоит еще две встречи с царем и министром. Надо подготовить два-три умных и толковых слова». Затем я описал обычаи приемов русского царя и беседы о министром так, как я прежде видел. И разъяснил, как следует задавать вопросы и вести с ними беседу.
«Столько слов в моей памяти не сохранится. Если ты мне напишешь, я запомню». Кое-какие из этих вопросов я записал вместе с обоснованными и короткими ответами. Он их повторял день и ночь, точно грамматические правила. А когда пришел на прием к царю, такое сказал, что не соответствовало ни тому, что я написал, ни наставлениям переводчика.
Когда мы прибыли в русскую столицу, нас встретили с достойным почетом и уважением. Но императора в городе не было. Он выехал на прогулку в окрестности города. К нам был приставлен ученый переводчик — иранец. Когда приблизилось время прибытия императора, посол начал приставать с вопросами к переводчику: «Растолкуй мне обычаи и характер разговоров на этих приемах. Скажи мне, что говорить царю». [Переводчик] подтвердил то, что я уже написал. Тогда он [посол] сказал: «Напиши, а не то у меня не удержится в памяти». Затем [переводчик] спросил меня, что хочет [58] этот глупец? Я сказал, что все уже написано и приготовлено, он хочет услышать это от тебя, чтобы снова выучить. Он тоже два-три слова написал и дал ему, указав, что во время первого приема царя говорят о дружбе, приятельстве и любви. И на нем [приеме], кроме дружеских и любезных слов, ничего другого не следует касаться. «А если я спрошу о землях, что будет?» Тот ответил: «Берегись! Не делай этого безрассудства! Потому что если царь по этому вопросу что-либо скажет, то уже ни прибавить, ни убавить ничего нельзя будет. Здесь есть государственный министр. По государственным вопросам говори с ним сколько хочешь. Он даст ответ. Вопрос относительно твоей страны наши министры обсуждали и советовались [по этому поводу]. [Они говорили], что из царей тюрских стран никто до сих пор нам не подчинялся. Теперь царевич из Бухары прибыл с изъявлением покорности. Следует с ним поступить так, чтобы это понравилось другим государствам, т. е. вернуть захваченные области и кое-что прибавить». Посол закивал головой и сказал: «Так я и сделаю». Когда же посол стал разговаривать с падишахом, то без вступления и предисловия, взяв за руку царевича, проговорил: «Повелитель правоверных прислал свет своих очей с надеждой, что его величество император вернет захваченные области — Ташкент, Самарканд, Джизак». Царь спросил у переводчика: «Что он говорит?». Тот перевел его слова. Царь махнул рукой, топнул ногой и сказал: «Эти области подчинены ташкентскому губернаторству и находятся в его ведении. Об этом следует спросить его». Затем, отвернувшись от посла, он взял за руку царевича и милостливо обратился к нему с вопросами и предложением осмотреть апартаменты своего дворца. Он приказал распорядителю, чтобы царевича не огорчали, показали ему различные театры и хорошие фабрики, чтобы он не печалился. Затем мы получили разрешение оставить собрание. Переводчик с послом говорил очень резко и упрекал его: «Я тебе что толковал? А ты что сказал? Я был не в силах все это переводить, но поневоле должен был перевести. И ты сам уничтожил труды царевича. Теперь у тебя не будет случая ни с кем сказать слово о владениях, исключая, губернатора».
По этой причине посол, очень опечалился, не стал осматривать тамошние места и начал просить разрешение отправиться назад. Переводчик говорил: «Не торопись и оставайся до весны: и царевич хорошенько насмотрится удивительных вещей в этих местах, и мы в ответ на твое послание напишем письмо. Наше письмо будет закончено лишь после обсуждения его во всех департаментах и министерствах. На это уйдет по меньшей мере один месяц. В ответ на твои подарки мы [59] тоже прикажем, чтобы приготовили все должные дары». Он не согласился и упорно настаивал на своем. Вначале месяца джади 138 было получено разрешение. Я сказал послу: «Ты дело не сделал, а людей и себя подвергнешь холоду и гибели».
«Творец, создатель мира, — он бог милостивый и нас сбережет», — ответил он. Я сказал: «Если падишах прикажет кого-нибудь расстрелять, разумный человек не станет ходить между стрелками и мишенью, говоря, что бог защитит, так как если пойдет, то, конечно, будет настигнут пулей и сам станет мишенью несчастья. Холод, снег и град на земле подобны пулям. Они сами собираются и невольно сами падают; и так продолжается, пока под солнцем месяца хамолл 139 не наступает отдых и ослабление. Само по себе падение [снега] происходит ради сохранения зерен, а таяние — для роста и разрастания корней. Можно оказать, что холод имеет то же значение пахоты и боронования. Святой владыка ради поездки такого глупца безмозглого, как ты, не приостановит дело земледелия и холодное время не превратит в теплое. По этой причине во время летнего зноя и зимнего холода путешествовать — это свидетельствовать о глупости и безрассудстве. Кроме глупцов, никто на это не отважится».
Действительно, холодные ветры и наступление осени несут весть обитателям земли, оповещая: «О жители земли, готовьте нужное для защиты от холода и, о, дикие звери, из пустыни бегите в берлоги, [пещеры] и, о, насекомые, забивайтесь в ямы, так как у нас есть дела в мастерской земли. Смотрите, как бы с вами — [не дай бог!] — не приключилось несчастье».
Только невежда не поймет это обращение и в этот момент уйдет из дому. Действительно, в пути мороз раздул нос посла и сделал его похожим на глиняный кувшин. Я сказал: «Не печалься, так как бог самый милостивый!» Пальцы рук и ног у большинства наших друзей были отморожены, и мы были вынуждены около полутора месяцев провести в одном из русских городов. Мы лечили ноги и руки, пока не приблизилась весна. Заботу о пище и пропитании возложили на плечи бухарских купцов. Каждый волей-неволей что-нибудь приносил и давал. Если бы посол не был глупцом, он бы оставался в столице, а все расходы на пропитание его и его товарищей шли бы за счет государства. Целью его поспешного отъезда было скорее прибыть в Бухару, а не прозябать в дороге, Вывод таков: по глупости он не послушался слов доброжелателя.
Еще одно: после того, как мы побывали в русской столице было объявлено, что эмир бухарский, признав себя покорным [царю], прислал в связи с этим своего сына. Франки [60] этому не поверили и прислали [своих представителей], чтобы проверить это известие.
Однажды переводчик привел в посольский дом одного иностранца, знающего язык, и сказал: «К вам пришел с целью вас увидеть умный и многознающий, владеющий персидским языком человек из страны франков. Он нам рассказал о после, который был с нашей стороны в Руме и что он три дня жил в его доме. Тот был человек невежественный. При этом [забавно то], что по убеждению ваших людей он слыл бухарским Абу-Али [Синой]». Затем, обратившись к послу, он сказал: «Император, великий падишах и вы хорошее дело сделали, что вступили на путь мира и согласия с ним, открыли дорогу для обмена письмами и посланиями. Теперь вам следует заключить письменный договор на пятьдесят, сто лет о союзе и мире, так как спокойствие людей связано с этим». Посол ответил: «Вражда, распри и войны между государями возникают из-за того, что не довольствуются [тем, что имеют]. Первоначально такие-то земли и такие-то места были наши, а эмир Насрулло отдал их эмиру афганскому Дастмухаммаду 140 под пастбища, поскольку тот прибыл в Бухару, как изгнанник. Сейчас они в твоих руках. Такие-то земли и такие-то места также были нашими, а сейчас они присоединены к государству императора. Если бы эти земли были возвращены и каждый бы довольствовался своей землей, то никаких бы смут и вражды не было. Если цель — спокойствие, ты эти области отдай и император пусть тоже отдаст, а мы вернемся назад». Иностранец очень удивился этим словам и спросил у переводчика по-русски: «О чем говорит этот человек, что он имеет ответить на мои предложения? Он говорит что-то противоположное. Нам следует говорить эти слова, а не ему». Переводчик ответил: «Он человек глупый и неотесанный. Неуместно повторял все, что взбрело ему в голову». Иностранец сказал: «Удивительно невежественный человек. Неизвестно, дадут ли [палку], а он претендует на целый климат». Затем он спросил у посла: «Вы когда сеете хлопок и сколько раз поливаете его? Если вам понадобится американский сорт хлопка, то мы дадим его семена. Это очень хороший сорт, высевайте его». Посол спросил: «Ты хочешь коконы шелкопряда?» Тогда я разъяснил ему, что речь идет не о шелковых коконах. Он ответил: «По дороге мы видели на берегу Сыр-Дарьи тысячи мешков с хлопком. Если будет свободный проезд и открытые дороги, то купцы привезут намного больше хлопка, чем теперь привозят». Иностранец засмеялся, поднялся с места и распрощался.
В самом деле, если бы в то время при определенных условиях [61] в определенных обстоятельствах посол вел себя умнее, то, возможно, царь приказал бы вернуть некоторые отошедшие области. И даже если бы молчал, то сами министры вернули бы кое-что в связи с приездом царевича. Или, по крайней мере, он мог бы заключить скрепленный печатями договор хотя бы о том, что между русским государством и нами не будет вражды и войн в течение ста лет. Это, конечно, даст основание избавить наш народ от опасений о том, будет ли в этому году война или нет.
Короче говоря, в таком [плачевном] положении мы вернулись в Ташкент. Царевич рассчитывал на то, что возможно губернатор Ташкента вернет области. Он же дал ему горсть орехов и фисташек и распрощался с ним. Так прибыли в Бухару. Эмир также питал надежду на возвращение некоторых областей. Когда увидал, что мы прибыли с пустыми руками, то очень огорчился. Он понял, что эти неудачи и огорчения произошли из-за его собственной неосмотрительности и из-за глупости его посла. Он спросил у меня: «Очевидно, грязь посла и вас запачкала [вероятно, посол совершал грязные дела]». Я ответил: «Нет, посол не делал преднамеренно или с умыслом ничего такого, чтобы противоречило самопожертвованию и интересам государства. Однако, сколько бы и что бы он ни говорил и ни делал, — все было не к месту. Но вины его в этом нет. Ответственность за это несет правительство и прежде всего за то, что оно назначает подобных лиц на высокие посты и на ответственные дела. Положение его в точности напоминает обезьяну-сторожа». Эмир спросил: «В чем дело?» Я рассказал: «Один садовник сильно привязался душой к обезьяне и выбрал ее себе в друзья. Однажды, выбрав в саду себе удобное место для отдыха, уснул. Обезьяна взяла веер и стала прогонять мух. Но как ни старалась обезьяна, размахивая веером, защитить его, мухи со всех сторон нападали на спящего, залезали в ноздри и глаза садовника. Расстроенная обезьяна схватила камень в десять сир 141 от весов, которым взвешивали виноград, и запустила им в мух. От удара мозги брызнули из головы садовника. Это было наказание за то, что он допустил к делам своего дома и своей жизни недостойного». Эмир сказал: «Что я могу сделать, если кушбеги допустил его к этому важному делу?» Я промолчал, не сказав, что кушбеги еще глупее его [посла].
Однажды мы были на приеме у одного из министров императора. Он сказал: «Я слышал, что вазир Бухары Мухаммад-шах кушбеги хороший человек, но неграмотный. Каким же образом он справляется с делами министерства?» Я ответил: [62] «Он стал вазиром, благодаря многолетней службе. С детства он находился при стремени эмира». Министр сказал: «Я не говорю, что его нужно повесить или заточить в тюрьму и там уморить, но работа министра требует ума и грамотности. Вазир должен обладать умом и владеть пером, чтобы устранять изъяны государства. Персона министра близка персоне падишаха. И тайны падишаха должны быть под силу вазиру. Если министр не будет сам владеть пером, то вынужден будет государственные тайны излагать писцу, а последний не имеет достоинств министра. Непременно тайна будет разглашена». Я ответил: «В нашей стране государственных секретов немного. Мы пребываем в колыбели мира и безопасности. У нас больше обывательских, жизненных секретов. И разглашение их не принесет вреда государству». Он продолжал: «Сохранение всяких секретов — необходимое качество благородства и человеческого достоинства. Нужно, чтобы никто не знал о скрытых грехах и испорченности падишаха. Применение этого в отношении султанов — предписание шариата».
И эта неразумность нашего вазира стала очевидной для него еще и из следующего. Однажды несколько русских начальников приехали в качестве путешественников, [чтобы все] осмотреть. Их безо всякой причины посадили на цепь, а имущество их было разграблено, растащено и конфискована. А потом под каким-то предлогом их выпустили. На самом деле, если хорошо посмотреть, все потрясения и смуты, которые происходят в этом государстве, все недостатки, которые здесь имеются — все [происходит] из-за неразумения вазира; его слабости и глупости.
Да, общий ход государства и его упадок вызван явной причиной, и этой [причиной] является Мухаммад-шах кушбеги. Во-первых, если бы у него было хотя бы немного ума и мудрости, то он не взялся бы за руководство вазиратом. Он заранее разузнал бы из исторических книг о занимаемом ими [вазирами] положении с тем, чтобы спросить себя: «Подхожу я для этого дела или нет?» Ум повелевает, что не следует брать на себя бремя сана, если не видишь общее благо конечным результатом. И для того, чтобы сберечь самого себя, ни один умный человек не возьмет на себя обязанность военачальника, вазира, с которыми связана погибель в этом и том мирах. А если уж ему выпала доля приказывать и распоряжаться, то делать это надо ради блага рода человеческого; Счастье не в том, чтобы наполнять и освобождать утрэбу и произносить молитвы. В действительности такой человек есть ассенизатор в образе человеческом. Наконец, тот, кто [63] от страха не в состоянии сказать падишаху слово правды,— как может управлять делами вазиратства?
Дело в том, что в руках вазира должна быть хотя бы частично власть, дабы он мог решать государственные дела. Затем, если же ему свободу действия и власти не дают, — ему следует тут же сбросить с себя бремя вазирства, не задумываясь о гневе султана.
Харун-ар-Рашид приказал одному из эмиров взять на себя управление Египтом. Тот человек не согласился. Харун разгневался и сказал: «Люди через посредников добиваются от меня управления Египтом, а я сам тебе это предлагаю и ты не соглашаешься». Он ответил: «Я по ряду причин к этой должности не пригоден: первое — необходимость наблюдения за нравственностью, что невозможно, так как бог назвал этот город обителью разврата, и только по моему приказу разврат в этом городе не станет порицаться: второе — я человек рассеянный, а ты в этом отношении поблажек не даешь. Даже карающий, и всемилостивейший аллах груз веры предложил взять небу и земле. Но они не согласились. И он на них не гневался». Харуну этот его ответ понравился и он его простил.
А однажды случилось так, что несколько русских и иностранцев под видом купцов прибыли в Бухару и выбрали остановку в одном из караван-сараев. Бухарские купцы, которые находились в России, написали письмо кушбеги [о том], что пять-шесть человек из русских и иностранцев приедут в Бухару. Они, очевидно, шпионы и их следует разыскать. Кушбеги кому-то приказал, чтобы их всех посадили на цепь и арестовали, имущество их конфисковали и передали в казну. Будучи в тюрьме в арке Бухары, они через посредство евреев или других лиц отправили в Россию письмо, что их заточили в тюрьму и теперь они находятся в цепях у эмира Бухарского:
«Причина этого нам неизвестна. Затребуйте нас». Один из этих пленных был братом русской императрицы, который предпринял это путешествие под видом купца. Сейчас же из русской столицы дали знать в Оренбург (а этот город служит местом сбора бухарских купцов), приказали забрать купцов вместе с их товарами и потребовать освобождения арестованных [русских].
Бухарские купцы написали кушбеги, прося его выпустить тех арестованных путешественников: «Мы тоже арестованы вместе с имуществом». Кушбеги тех арестованных освободил и отправил, чтобы этим освободить бухарских купцов. На все это ушло примерно шесть месяцев. После этого стало [64] известно о готовившемся нападении русских на области Туркестана. И о том, что они в скором времени подойдут к Ташкенту и завоюют его. В это время один из друзей автора из числа купцов, ездивших в крепость, приехал ко мне и рассказал: «Я был в крепости Казалияске. Однажды некто прибыл в крепость, сидя в великолепной коляске и в шляпе с перьями. Говорили, что он едет из Петербурга и намеревается отправиться в Бухару. Через два дня он ко мне пришел и что-то спросил. Я достал для него это в своей лавке и отдал. Он спросил: «Ты откуда?» Я ответил: «Из Бухары». Потом он присел и сказал: «Если я отправлюсь в Бухару и буду служить там вашему правителю, что мне дадут? Я знаю много ремесел и искусств, начиная от военных порядков и знаний военной тактики, а также перевод с многочисленных языков». Я сказал: «Тебя объявят шпионом, бросят в тюрьму, закуют в цепи и убьют». Он ответил: «Меня не посмеют убить, а если убьют, то за мою кровь пусть дадут десять [таких городов, как] Бухара [и то] они не станут выкупом. Я служил четырем государствам и от каждого получал ордена». Затем мне показал ордена этих государств и сказал: «Я мусульманин и хочу ради благополучия мусульман в Бухаре послужить, обучить их военному строю. Вскоре между русским государством и Бухарой снова возникнет вражда и столкновения». Я ответил: «До тебя уже многие знающие, талантливые люди приходили. Их бросали в тюрьму и убивали». На этом разговор был закончен. Через месяц дело наше закончилось, и я вернулся в Бухару. Там среди других освобожденных из тюрьмы русских людей находился и этот человек.
Я обратился к нему с приветствием и спросил: «Куда Вы отправились? Что делали?» Он ответил: «То, что ты сказал, оправдалось. Как только я прибыл в Бухару, — меня, ни о чем не спросив, арестовали вместе с ними. Через несколько дней выпустили. Основания для ареста, как и для освобождения, мне не были известны. Вначале русский царь меня послал для их же спасения по той причине, что жена царя просила отправить человека, который выручил бы арестованного в Бухаре ее брата. Царь вызвал меня к себе и сказал: «Ты мусульманин. Законы и порядки их знаешь, отправляйся и такого-то освободи из тюрьмы». Я отправился в Бухару. Никто не спросил меня о том, кто я, — и меня также заковали в цепи. Пробыл я до тех пор, пока вместе с теми, за кого ходатайствовали, и меня освободили». [65]
И после того, как дело было расследовано, выяснилось, что этот человек тегеранец по имени Казимбек. Он был учителем детей русских аристократов и царевичей. Это был умный человек, поэт, астроном и медик. Когда он прибыл в русскую столицу, он привез три подарка: разбитую глиняную афтобу 142, бухарскую ложку для плова, наполовину сожженную, и разбитый глиняный подсвечник. Поставил он их перед императором и сказал: «Это умывальник бухарского эмира, из которого он совершает омовение, а этой штукой он достает пищу, а это вещь, на которую ночью ставится светильник. Что карается других вещей, которыми пользуется султан тюрских стран, то все они от тебя, например: ситец и сукно, керосин и железо, бронза, серебро и золото, сахар и сладости и все другое. Если бы им отказали в этих вещах, то они стали бы носить на ногах чарыки 143, а голову покрывали бы трехгазовой шерстяной тряпкой, а ткани для халатов и одежды выделывали бы из грубых ниток, из которых делают канары, мешки и паласы. Их земля ограничена пятью-шестью климатами, соответственно делению европейцев, и государство делится на четыре части. Одна часть находится в Туркестанской области, входящей в состав владений турков — потомков Яфета. Там живут все кочевники. И во главе каждого из этих племен стоит правитель
Copyright © 2018 Birdamlik.Info



